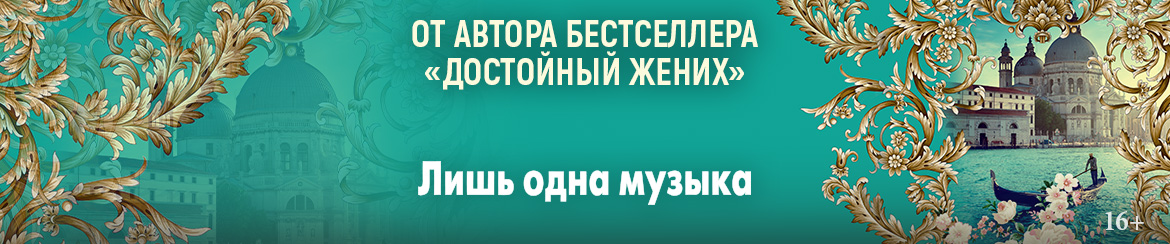2.13
Когда мне было всего девять, наш необузданный, болтливый, шуршащий конфетными фантиками, пускающий самолетики класс привели на школьный концерт. Это была моя первая встреча с живой музыкой. На следующий день я рассказал миссис Формби про концерт. То, что я особенно запомнил, была пьеса про жаворонка — мне кажется, что она называлась «Жаворонок в ясном небе».
Миссис Формби улыбнулась, подошла к граммофону и поставила другую пьесу, вдохновленную той же птицей. С первой же ноты «Взлетающего жаворонка» я был очарован. Я заметил пару скрипок, лежащих среди многих удивительных вещей в доме, но с трудом поверил ей, когда она сказала, что давным-давно и сама играла эту пьесу. Я не часто беру в руки скрипку, сказала она, но я прочту тебе стихи, благодаря которым эта пьеса была написана. И она прочла мне строчки Джорджа Мередита*, вдохновившие Воана-Уильямса. Слушать ее было странным занятием для меня, девятилетнего, еще более странным было лицо миссис Формби, выражение экстаза в ее глазах, увеличенных толстыми стеклами.
Взмывает и давай кружить —
На нот серебряную нить
Нанизывает ожерелье
Из свиста, щебета и трелей...
Петь, чтоб все небо надо мной
Любовью налилось земной.
И вот уже долина наша
Как будто золотая чаша,
А он — вино: лишь пригубим
И вознесемся вслед за ним...
Исчез в лазури он, спеша,
Но песней полнится душа**.
*Джордж Мередит (1828–1909) — известный английский писатель Викторианской эпохи.
** Перевод Антона Гопко.
Миссис Формби не посчитала нужным объяснять стихотворение. Вместо этого она сказала, что собирается на «Мессию» Генделя через несколько недель — там будет петь их племянница из Шеффилда — и что, если мои родители не против, миссис Формби может взять меня с собой. Вот так случилось, что я услышал и увидел маленького и немощного Барбиролли***, воссоздавшего в «Кингс-холле» в Бельвю парящие звуки, которые потом резонировали в моей голове несколько дней, и это, вместе со «Взлетающим жаворонком», побудило меня умолять миссис Формби учить меня игре на скрипке.

Сначала она учила меня на маленькой скрипке, на которой сама играла ребенком. Это вытеснило мою прежнюю страсть — роликовые коньки. Когда я был еще в средней школе, ей удалось найти мне хорошего учителя. Мои занятия на скрипке родителей не очень интересовали, но они чувствовали, что это нечто престижное и в любом случае полезное — оберегает меня от шалостей на несколько часов в неделю. Они платили за них, как платили за мои школьные экскурсии, дополнительные уроки, книги, которые мне хотелось прочесть, — за все, что, как им казалось, расширяло мой кругозор и помогало мне на пути в университет. У них не было особой любви к музыке. В доме у дедушки с бабушкой стояло пианино, и мебель в гостиной располагалась вокруг него так, как теперь вокруг телевизора, но на нем никто не играл, кроме редких гостей.
Школа, в которую я ходил, была старой школой с музыкальной традицией. И местная школьная администрация предлагала уроки внештатных учителей музыки. Но теперь все это почти или совсем исчезло. Тогда была система выдачи инструментов на время бесплатно или почти бесплатно тем, кто не мог себе позволить их купить, — все это исчезало вместе с бюджетными сокращениями, проводившимися снова и снова в системе образования. Молодые музыканты со всей округи собирались по субботам, чтобы играть в оркестре в музыкальном центре, ныне пришедшем в упадок. Вчера я проезжал мимо него: окна были разбиты; уже годы, как он в запустении. Если бы я родился в Рочдейле на пять лет позже, не понимаю, как бы я смог, с моим происхождением и окружением, сохранить любовь к скрипке, а ведь многие были сильно беднее нас.
Элегантное здание мэрии правит пустыней — нашим городом. Все говорит об увядании. В течение столетия, когда разрушалась местная промышленность, жители города теряли работу и благосостояние. Потом пришел урбанизм: замена человеческих трущоб на нечеловеческие, церкви затерялись на островках среди дорожного движения, там, где раньше были частные лавочки, появились супермаркеты. Потом два десятилетия правительство перекрывало все возможные ручейки финансовой помощи. Школы, библиотеки, больницы, транспорт — все, что служило обществу, задохнулось без фондов. Город, где зародилось кооперативное движение, утратил всякое чувство локтя.
Театры закрылись. Все пять кинотеатров тоже. Литературные и научные общества сократили свою деятельность или вообще исчезли. Помню, как я был безутешен, когда узнал, что наш книжный закрывается насовсем. Теперь остались несколько полок в глубине магазина «У. Х. Смит».
Через несколько лет умрет мой отец, умрет моя тетя Джоан, умрет миссис Формби. Не думаю, что я буду приезжать в Рочдейл тогда. Если я решил порвать все связи с городом, с какой стати я так злюсь и жалею его сейчас?
***Сэр Джон Барбиролли (1899–1970) — британский дирижер и виолончелист итальянского происхождения.
2.18
Я встретил Джулию ранней зимой, через два месяца после того, как приехал в Вену. Шел студенческий концерт. Она играла сонату Моцарта. Потом я сказал ей, как был заворожен ее игрой. Мы разговорились и обнаружили, что мы оба из Англии, однако из очень разных Англий, поскольку ее отец был профессором истории в Оксфорде. Ее родители встретились после войны — в Вене, как и мы. После недель борьбы с немецким языком было такое удовольствие, такое облегчение снова говорить по-английски, что я болтал гораздо больше обычного. Она улыбнулась, когда я сказал, что я из Рочдейла, — и почему-то я стал рассказывать о моем городе совсем по-другому, как никогда раньше. Я пригласил ее на ужин. Вечер выдался холодный, со снегом и слякотью, и Вена пребывала в своем серейшем и мрачнейшем виде. Мы пошли пешком в ресторан. Я поскользнулся, она удержала меня от падения. Инстинктивно я поцеловал ее — потрясенный самим собой в тот же момент, а она была слишком удивлена, чтобы возразить. Ее волосы укутывал серый шелковый шарф — она всегда любила шарфы. Я посмотрел в ее глаза, отвел взгляд и понял, как, наверное, поняла и она, что я пропал.

С момента нашей первой встречи я не мог ни о чем думать, только о ней. Я не знаю, что она во мне нашла, кроме моей почти безнадежной тяги к ней, но в первую же неделю после встречи мы стали любовниками. Однажды утром, после ночи любви, мы попробовали играть вместе. Получалось не очень хорошо, мы оба слишком нервничали. Позже в ту же неделю мы попробовали опять, и оба поразились, как естественно это вышло и как одинаково мы чувствовали музыку. Вместе с виолончелисткой Марией, подругой и однокурсницей Джулии, мы создали трио и стали давать концерты где могли — в Вене и вне ее. По совету одного из друзей мы послали кассету и заявку в летнюю школу в Банфе и были туда приняты. Ту зиму, весну и лето я жил во сне наяву.
Она была на пять лет моложе меня, обычной студенткой, в противоположность мне, уже закончившему обучение, приехавшему к определенному учителю. Во многом, однако, она казалась старше. Ей было легко в Вене, где она жила уже три года. И хотя она провела всю свою жизнь в Англии, по-немецки она говорила так же хорошо, как по-английски. Она выросла в окружении, сильно отличавшемся от моего, искусство, литература и музыка впитывались там без усилий и объяснений — из разговоров и путешествий, из книг и пластинок — под влиянием окружающих стен и книжных полок. После всех моих занятий в школе и моего книжного самообразования, иногда случайного, иногда маниакального в течение всех этих лет в Манчестере, она стала моим лучшим учителем, и за это, как и за все остальное, я отдал ей свое сердце.

Она научила меня получать удовольствие от искусства, она улучшила мой немецкий, она даже научила меня играть в бридж. В музыке она научила меня многому просто своей игрой. Радость, которую я испытывал, играя с ней вдвоем или в нашем трио, была не меньше, чем та, которую мне теперь дает квартет. Я только потом понял, что даже о музыке я узнал от нее больше, чем от кого бы то ни было, поскольку тому, чему я научился у нее, меня не учили. Иногда она ходила в церковь, но не каждое воскресенье, а когда была за что-то благодарна или что-то ее беспокоило. Этот мир был закрыт для меня, я не молился, даже ритуально, со школьных дней. Несомненно, религия тоже была основой ее уверенности в себе, но я чувствовал себя неловко в этом вопросе, и было ясно, что она тоже не хотела со мной говорить об этом, даже если никогда прямо этого не высказывала. У нее была тонкая душа и доброта, какой я больше ни в ком не встречал. Возможно, она видела во мне многое, что ей было чуждо, — непостоянство, дух противоречия, скептицизм, неотесанность, вспыльчивость, временами приступы паники, чуть ли не душевной болезни. Но как это могло привлекать? Она сказала, что, поскольку я должен был зарабатывать на жизнь в течение многих лет, я отличался от других студентов, которых она знала. Она сказала, что любит быть со мной, хотя никогда не знает, чего ждать от моего настроения. Когда я все глубже и глубже погружался в депрессию, она, должно быть, чувствовала, как сильно я нуждаюсь в ней. Главное, она, должно быть, точно знала, как сильно я ее люблю.
Пришла вторая зима. В начале года меня стал беспокоить средний палец. Он медленно двигался и действовал только после долгого разыгрывания. Карл реагировал с яростью и нетерпением: мои расслабленные трели были очередным оскорблением его достоинства, а моя общая нервозность отражала мою беспомощность. Будто один из возможных бриллиантов в его короне оказывался простым углем, способным превратиться в свою идеальную форму только под сильным и постоянным давлением. Он давил, а я распадался на части.
Зимой и весной она пыталась со мной разговаривать, придать мне сил остаться до конца года в Вене, как я ранее собирался, хотя бы ради любви к ней. Но я не мог с ней говорить про пустоту во мне. Она просила меня не покидать учителя, не помирившись, и снова и снова напоминала мне о том, что я видел в Карле раньше, то, что она все еще видела в нем: его игра была глубже его виртуозности, она передавала высоту духа в каждой фразе. Но мой с ним конфликт настолько глубоко отпечатался в моем мозгу, что, когда она защищала Карла, это казалось мне невыносимым предательством, — в каком-то смысле худшим, чем его собственное, ведь от него я и не ждал понимания.

Я уехал. Спасся бегством в Лондон, поскольку мысль вернуться домой была мне также невыносима. Я не писал и не звонил ей. Только постепенно мой взгляд прояснился, слепота ушла; я понял, с какой честностью и любовью она обращалась со мной, и осознал, что из-за моего внезапного отъезда и долгого молчания могу потерять ее. И я ее потерял. Прошло два месяца. Когда я наконец написал ей, наверное, ей было уже все равно.
Я пробовал звонить, но, кто бы ни подходил к общему телефону в студенческом общежитии, он возвращался через минуту или две сказать, что ее нет. Ответа на мои письма не было. Пару раз я думал поехать в Вену, но у меня почти не было денег, и я по-прежнему боялся столкнуться с памятью о моем крахе, боялся присутствия Карла Шелля и того, как Джулия может ответить на любые мои объяснения. К тому же начались летние каникулы, и она могла быть где угодно. Прошли месяцы. В октябре начался семестр, а от нее по-прежнему не было ответа.
Острота потери со временем сменилась в Лондоне тупым оцепенением. Вскоре я утратил надежду, а вместе с ней утихла режущая тоска. Две трети моей жизни были еще впереди. Я записался в агентство, которое находило мне временную работу. Через год меня взяли в оркестр «Камерата Англика». Я играл, я выжил. Даже скопил немного: у меня не было никого, на кого я хотел бы тратить деньги. Я ходил в музеи, галереи, библиотеки. Всюду ходил пешком. Я познакомился с Лондоном и его жизнью, но не чувствовал себя в нем менее чужим. Моя душа была не здесь — то ли на севере, то ли на юге. В картинах, которые я видел, в книгах, которые читал, я вспоминал Джулию, ведь во многом она была у истоков моего становления.
Когда я слушал музыку, часто это был Бах. Это ведь с ней, благодаря ее игре, мои чувства к Баху переросли из восхищения в любовь. Иногда они с Марией играли его сонаты для виолы да гамба, иногда мы с ней исполняли его музыку для скрипки и клавира, несколько раз она даже усаживала меня у левого края фортепиано играть на басовых клавишах ту партию, которую органист играл бы ногами. Одна хоральная прелюдия, «An Wasserfl üssen Babylon»****, потрясла меня, прямо когда мы ее исполняли. Когда она играла одна, сама себе — сюиту, или инвенцию, или фугу, — я полностью отдавался Баху. И ей.
Я спал с другими женщинами до нее, и у нее раньше был бойфренд, но я стал ее первой любовью, как и она моей. С тех пор я никогда не любил. Но я так и не разлюбил ее — ту, какой она была, или, как я понял позже, ту, какой я ее затем представлял. Но кем она стала теперь, кто она теперь? Я привязан к ней с такой безумной верностью...А ведь она могла полностью измениться. (Но могла ли? Могла ли она действительно сильно поменяться?) Она могла начать меня ненавидеть за то, что я ее покинул, она могла меня забыть или научиться специально изгонять меня из своей памяти. Сколько секунд или недель я продержался в ее мыслях после того, как она видела меня в том автобусе?
Как она могла меня простить, если я не могу простить сам себя? Когда слушаю Баха, я думаю о ней. Когда играю Гайдна, Моцарта, Бетховена или Шуберта, я думаю про их город. Она показала мне Вену, любой шаг или камень в том городе связывает меня с ней. Я не был там десять лет. Но весной мы должны туда ехать играть, и я знаю, что ничто не сможет облегчить мою боль.
**** «На реках вавилонских» (нем.).