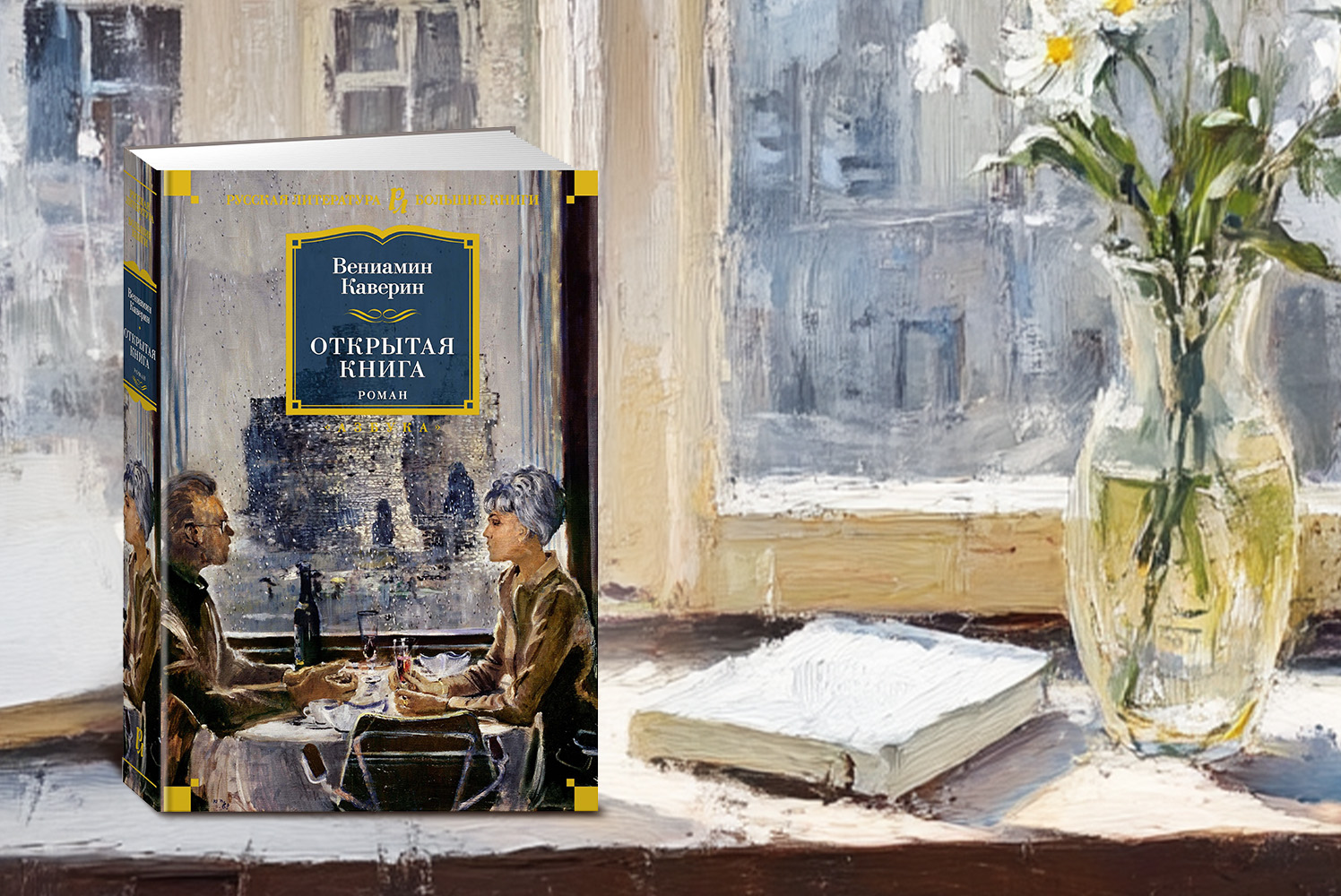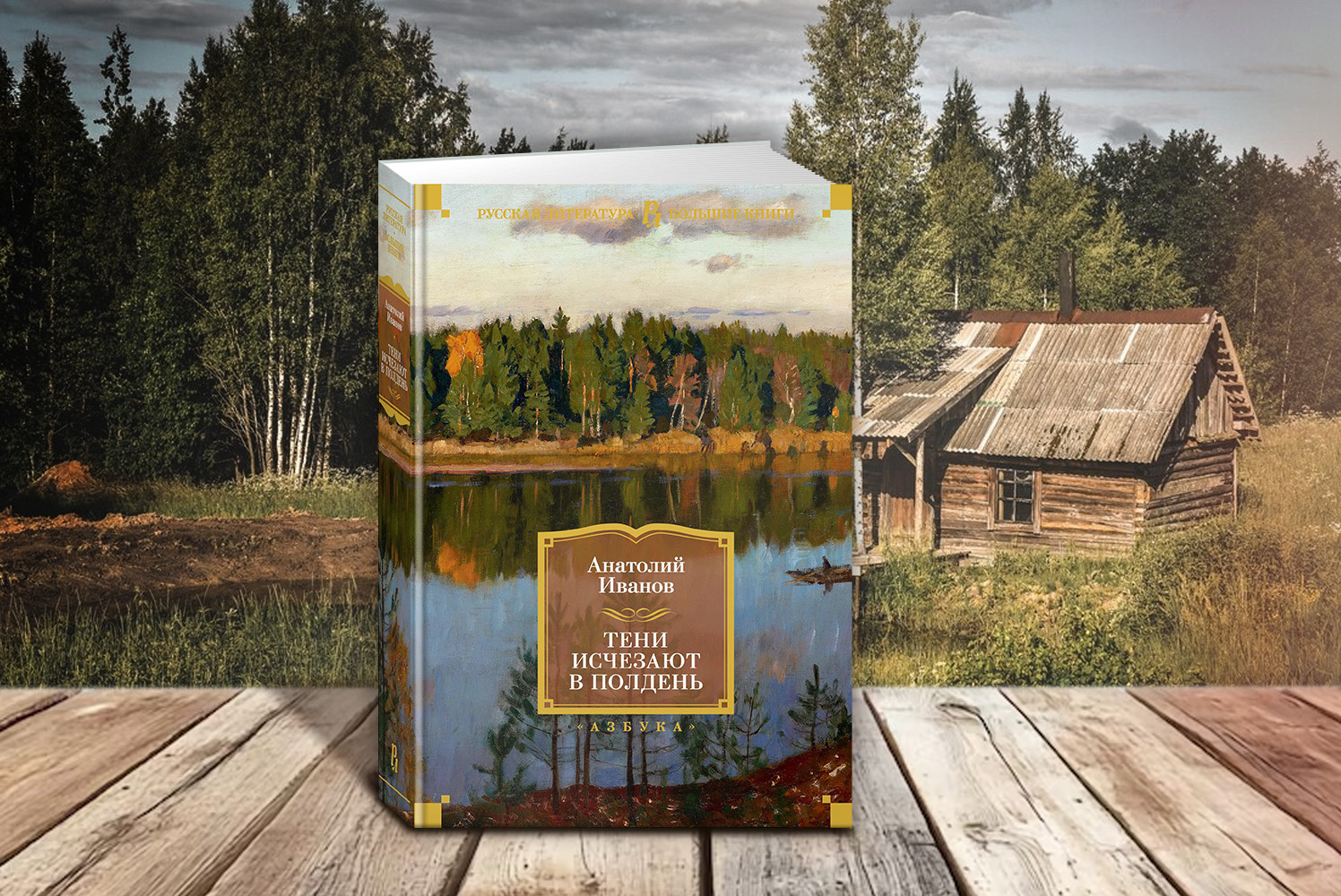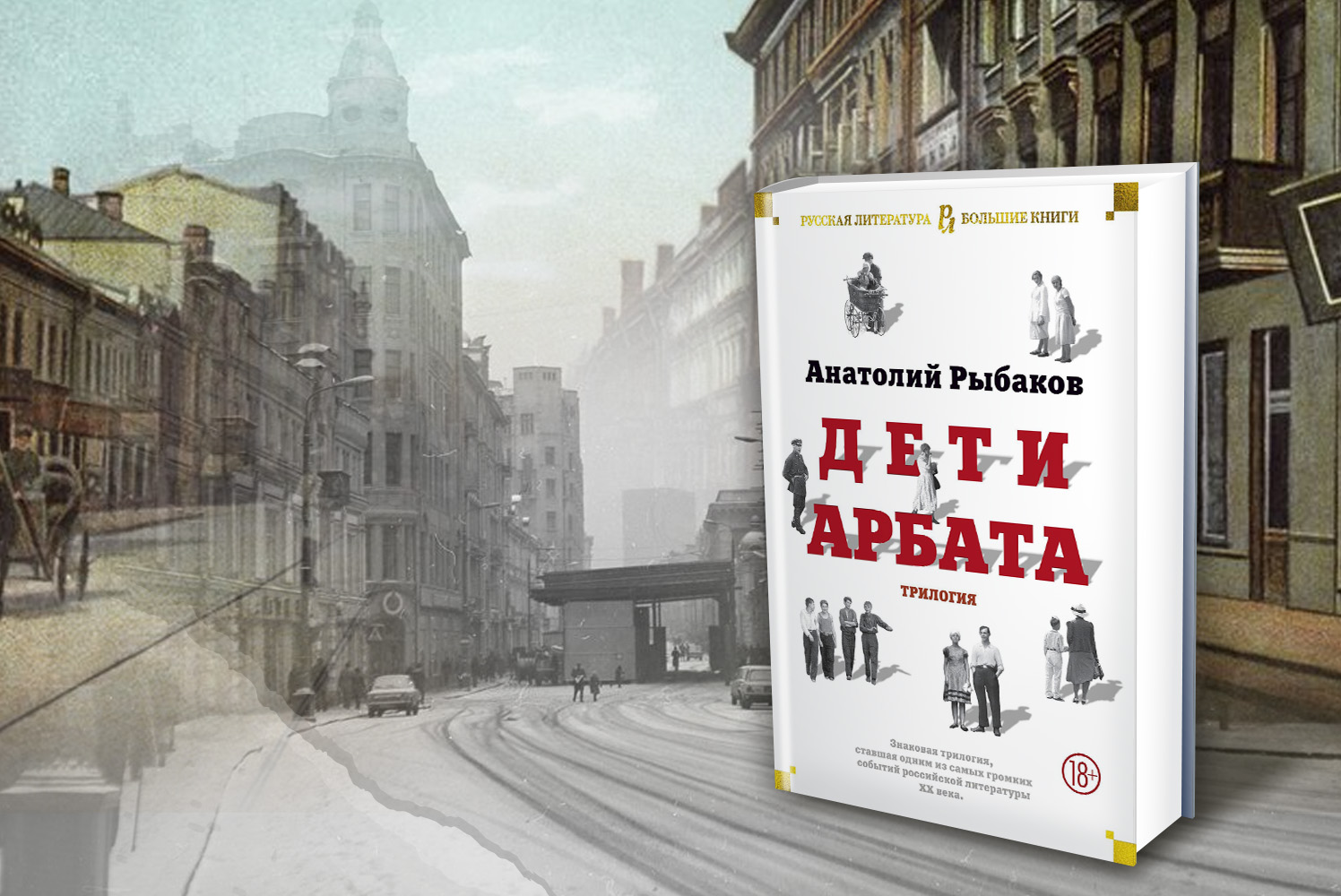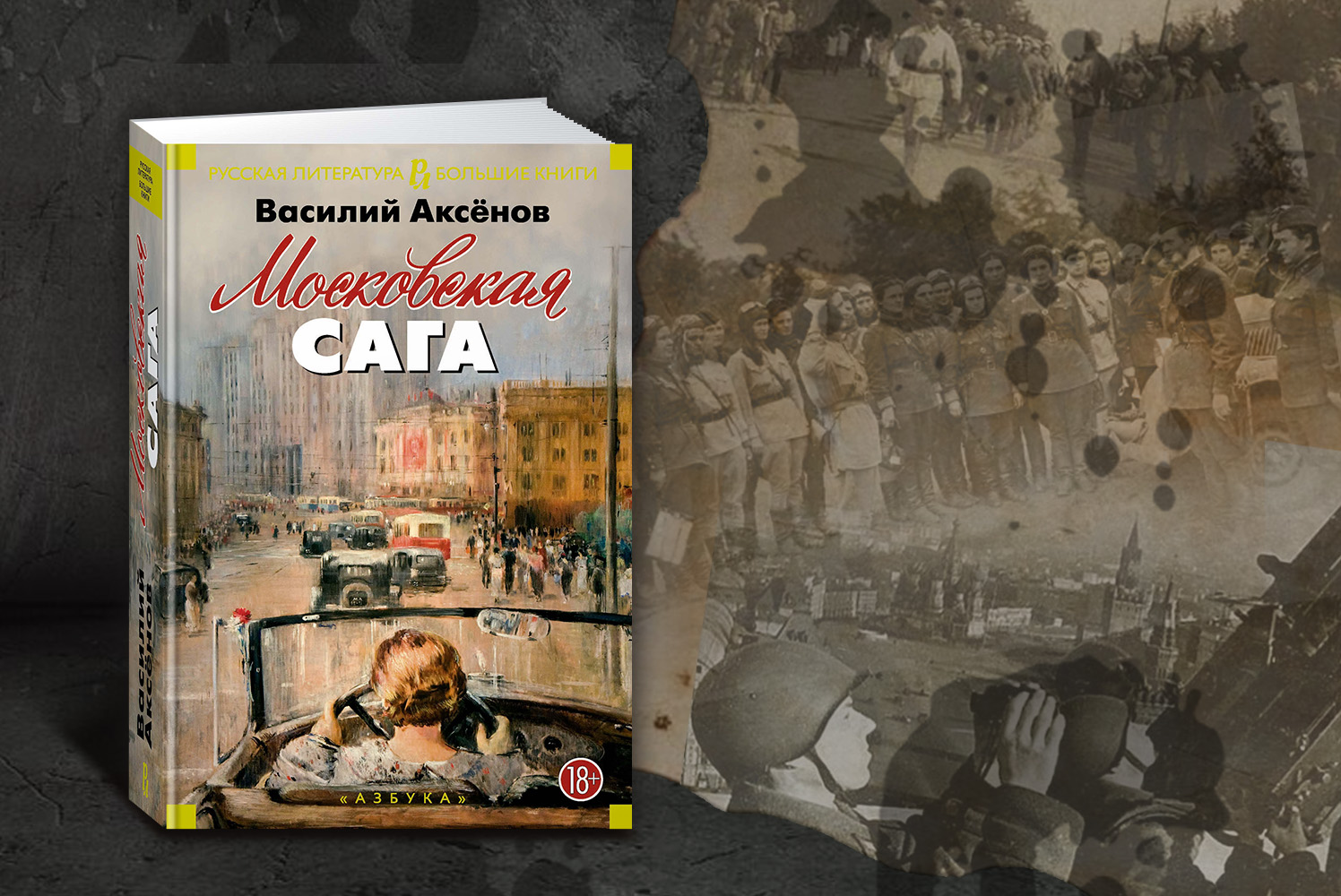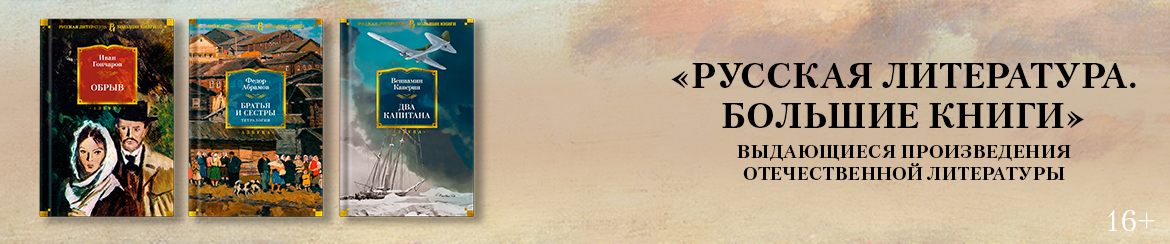Советские семейные саги раскрывают сложные истории нескольких поколений, отражая судьбы людей на фоне важных исторических событий. Художественные произведения отличаются глубиной социальной тематики, драматизмом и вниманием к деталям быта. Сравнивая советские и зарубежные книги, можно заметить, что отечественные истории этого периода чаще обращаются к вопросам общественного устройства и проблемам государственного уровня. Иностранная же проза тяготеет к личным драмам и поиску гармонии в семье. Поэтому советские семейные саги остаются востребованными у читателей, интересующихся историческим контекстом.
«Братья и сестры», Федор Абрамов
«Снаряды не рвались, пули не свистели. Но были похоронки, была нужда страшная и работа. Тяжкая мужская работа в поле и на лугу» – так Федор Абрамов вспоминал 1942 год. Фронтовик, тяжело раненный в боях, он оказался в блокадном Ленинграде, попал в эвакуацию и несколько месяцев провел в родном колхозе. Впоследствии на основе этого опыта Абрамов напишет свой первый роман «Братья и сестры», книгу о жизни советской северной деревни во время Великой Отечественной войны. Все мужчины ушли на фронт, а в тылу женщины, старики и дети работают на износ, чтобы добыть хлеб для страны. Но даже на этом горестном фоне находится место красоте, радости жизни и любви.
Любви к деревне и русскому крестьянству у Абрамова хватало. Он родился в 1920 году в селе Веркола (Архангельская область) и сохранил восхищение севером, его людьми и природой на всю жизнь. На войну он ушел с филфака Ленинградского университета. После краткой передышки на селе вернулся на фронт, служил в контрразведке, после войны доучился, работал на кафедре, потом кафедру возглавил – жил жизнью советского человека, с ее доблестями и подлостями (подписался под клеветнической статьей против «писателей-космополитов», о чем потом очень жалел). А параллельно задумывал большую книгу о деревне. В итоге за двадцать восемь лет написал цикл, по масштабу сравнимый с «Тихим Доном» – работу над первой книгой начал в 1950-м, последний том вышел в 1978-м.
Даже «Братья и сестры» выходили со скрипом, три книги-продолжения: «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья», «Дом» – тем более. Советскому официозу не нравилось, что Абрамов поднимал неудобные вопросы: почему деревня живет так бедно и тяжело? Почему вымирает? Почему государству всегда важно собственное величие, и никогда – живые люди? Сам Абрамов от человека старался не отворачиваться. Герои его тетралогии – несовершенные, иногда невыносимые, но красивые и настоящие люди, подобные тем, которых автор всю жизнь знал и любил.
«Открытая книга», Вениамин Каверин
Вениамин Каверин (1902–1989) любил писать книги о пытливых и смелых людях, преданных своему делу, первооткрывателях и упрямцах, – при этом никогда не скатывался в соцреалистическую пропаганду, описывающую плакатных коммунистических героев. Сказывался опыт: в юности Каверин застал Cеребряный век, учился у своего шурина, авангардного литературоведа Юрия Тынянова, в начале 1920-х принадлежал к литературному объединению «Серапионовы братья», участники которого декларировали: качество письма превыше политики и конъюнктуры.
Этих принципов Каверин придерживался всю жизнь, к тому же отказывался участвовать в травлях, не отворачивался от попавших в опалу друзей, в общем, не ломался под гнетом обстоятельств и сохранял достоинство. Те же качества легко найти в каверинских героях, будь то летчик Саня Григорьев из прославленных «Двух капитанов» или микробиолог Татьяна Власенкова – главная героиня «Открытой книги», романа в трех частях, который Каверин писал больше десяти лет и опубликовал в конце 1950-х.
Героиня «Открытой книги» – советский человек в лучшем смысле этого слова, целеустремленная профессионалка с добрым сердцем, непримиримая к произволу и несправедливости, которых в жизни, конечно, хватает. Каверин писал ее с Зинаиды Ермольевой, создательницы пенициллина в СССР, а в образе Андрея, коллеги и мужа Татьяны, угадывается Лев Зильбер – тоже микробиолог, родной брат автора. Не понаслышке знакомый с тем, как жили советские ученые, Каверин написал обстоятельный, неторопливый роман, где есть место и науке, и любви, и историческим испытаниям, и противостоянию бездушной бюрократии. Как обычно, у книги хватало проблем – ее кусала цензура, громили сталинистские критики за недостаточное совпадение с линией партии, а вариант без купюр автор смог опубликовать только во времена оттепели. Каверин не унывал – подобно своим героям, он всю жизнь делал свое дело и верил, что в конце концов это окупится.
«Тени исчезают в полдень», Анатолий Иванов
В отличие от других героев этой подборки, у писателя-«почвенника» Анатолия Иванова (1928–1999) не было никаких проблем с советской властью. Напротив, он уверенно шел по карьерной лестнице советского литератора: проведя детство и юность в Казахстане, переехал в Новосибирск, работал в местной газете, в конце 1950-х — начале 1960-х стал признанным литератором, перебрался в Москву, где даже возглавил журнал «Молодая гвардия». При Иванове журнал стоял на крайне консервативных позициях.
Серьезную славу Иванову принес роман «Тени исчезают в полдень», изданный в 1963-м, а в начале 1970-х адаптированный для популярного сериала. В центре сюжета — Сибирь 20-х годов, где уже установлена власть большевиков, но недобитые белые сеют хаос, на что накладываются нешуточные драмы крестьян, только выбравшихся из пламени Гражданской войны.
Иванов не скрывал, что его проза идеологична, и ставил своей целью показать, как советская действительность очищает от «скверны капиталистических пережитков». Этой теме посвящены и «Тени исчезают в полдень» (тени из названия — враги большевиков, исчезающие, когда восходит в зенит солнце советской власти), и другой хит Иванова «Вечный зов». Реплики отрицательного героя Лахновского из «Вечного зова» впоследствии (без участия самого Иванова) даже послужили материалом для создания известного мифа о «плане Даллеса», по которому враги намерены отравить СССР с помощью морального разложения.
Впрочем, какими бы идеологизированными ни были книги Иванова, в популярности и увлекательности отказать им сложно. «…страсти идут античного накала. В пространных романах Иванова — всегда множество драматических поворотов, что делает их в высшей степени кинематографичными», — отмечал «Коммерсант» в некрологе.
«Дети Арбата», Анатолий Рыбаков
Сегодня трилогию «Дети Арбата» помнят не слишком хорошо, но в момент выхода первой книги в 1987 году она прогремела на весь мир. Роман о молодых москвичах, чья юность пришлась на тревожные 30-е годы с их нарастающим террором, роман, где главного героя оговаривают и отправляют в ссылку, роман, где появляется сам Сталин и произносит страшные слова: «Нет человека – нет проблемы», стал таким же символом гласности, как публикации Солженицына и Шаламова. В конце 1980-х впервые за десятилетия стало возможно говорить о мрачном прошлом государства, о том, как оно ломало судьбы, – и Анатолий Рыбаков (1911–1998) сполна воспользовался этой возможностью.
Удивительно, что, в отличие от того же Солженицына, Рыбаков считался писателем вполне советским, одобренным сверху, – да как! За роман 1950 года «Водители» получил Сталинскую премию. С другой стороны, родившийся в 1911 году Рыбаков успел хлебнуть горя: в 1933-м был, подобно герою «Детей Арбата» Саше Панкратову, осужден на несколько лет ссылки за идеологические просчеты, позже скитался по стране, не имея права жить в городах. Воевал, дошел до Берлина – боевые заслуги позволили искупить «вину», судимость с Рыбакова сняли. Начал писать, первую славу ему принесли не столько производственные «Водители», сколько детские приключенческие повести: «Кортик», «Бронзовая птица», трилогия о Кроше.
Рыбаков все прекрасно понимал про советскую власть, но не уходил в диссиденты, продолжал работать, публиковал важные книги – в первую очередь «Тяжелый песок» (1979), роман о Холокосте на территории СССР, для еврея Рыбакова тема глубоко личная. «Дети Арбата» вместе с продолжениями «Страх» и «Прах и пепел» до поры до времени лежали в столе. Книга о гибели молодого поколения, задушенного репрессиями и уничтоженного на войне, дожидалась публикации двадцать лет – Рыбаков мог бы переправить книгу на Запад, опубликовать в самиздате, но упрямо ждал, когда сможет напечатать на родине. У него получилось, что лишний раз подтверждает известную максиму: в России надо жить долго.
«Московская сага», Василий Аксенов
Писатель Василий Аксенов прожил тоже немало (1932–2009), но ждать перемен к лучшему не захотел: в 1980-м, после участия в неподцензурном альманахе «Метрополь», он покинул СССР и был лишен гражданства. Три тома «Московской саги» («Поколение зимы», «Война и тюрьма», «Тюрьма и мир») написаны и вышли в свет в 1989–1993 годах, когда Аксенов жил в США. «Я сам не ожидал, что меня затянет в трехтомную „сагу“», – говорил позже автор, рассказывая, что погрузиться в атмосферу 1930-х – 1940-х его заставила работа с архивными статьями в Библиотеке Конгресса, где находил старые советские газеты. Постепенно развернулось полотно жизни нескольких поколений семьи Градовых, написанное на известном фоне – надежды, любовь, репрессии, война.
Сам Аксенов в 1930-е был еще ребенком, но о сталинском терроре тоже знал не понаслышке: обоих его родителей арестовали и осудили на десять лет тюрьмы и лагерей, когда Аксенову не было и пяти. Впоследствии мать Аксенова, Евгения Гинзбург, напишет о лагерном опыте книгу «Крутой маршрут», один из ключевых литературных документов эпохи. Часть юности Василия прошла на Колыме, куда он приехал к матери.
Аксенов работал врачом, но со временем переключился на литературу и снискал большой успех, уже в 1960-е стал одним из самых модных писателей. Его любило поколение оттепели, ценившее свободу, импровизацию, джаз; вольную прозу Аксенова тоже сравнивали с джазом – он экспериментировал с жанрами, мешал реализм с фантастикой и не обращал внимания на советские литературные каноны. Это чувствуется и в ранних вещах, и в написанном в стол «Острове Крым», и в «Московской саге», где в качестве одного из героев появляется Ленин, переродившийся в бельчонка. С эпохой застоя стиль Аксенова и сам Аксенов сочетались плохо, и из страны его все-таки выдавили – впрочем, не прошло и десятилетия, как он вернулся и успел пожить на родине при более свободных временах. А «Московская сага» осталась одним из важных беллетристических произведений о XX веке.