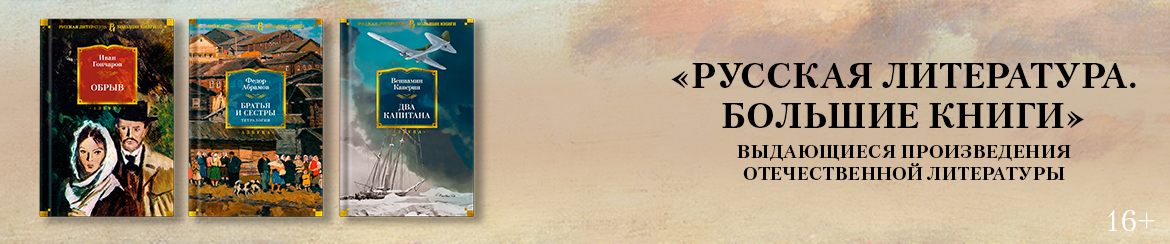Что такое путевой очерк

Путевой очерк (или травелог) — жанр одновременно публицистический и художественный, информационный и изобразительный. Он сочетает в себе документальность сведений о цели и маршруте путешествия с сугубо личным восприятием автора, его размышлениями об увиденном и эмоциональной окраской пережитых событий, осознанной композиционностью повествования. Именно последняя составляющая — литературность — отличает путевой очерк от простого дорожного дневника или заметок.
Так, одним из самых ранних примеров путевых заметок можно считать некоторые главы из «Истории» Геродота (около 440-е до н. э.), где тот описывает реалии жизни в Вавилоне, Египте и Персии, основываясь на опыте собственных странствий по этим землям. Дает он там и личную оценку тем или иным местным традициям. Многие путешественники-первооткрыватели вели журналы, где фиксировали свои наблюдения — от безымянного автора «Перипла Эритрейского моря» (III–I вв. до н. э.) до Марко Поло.
Тем не менее, потенциал путевых очерков как самостоятельного и заслуживающего внимания жанра стал очевиден далеко не сразу, и не во всех литературных традициях в одно время.
Путевые очерки в традициях зарубежных стран
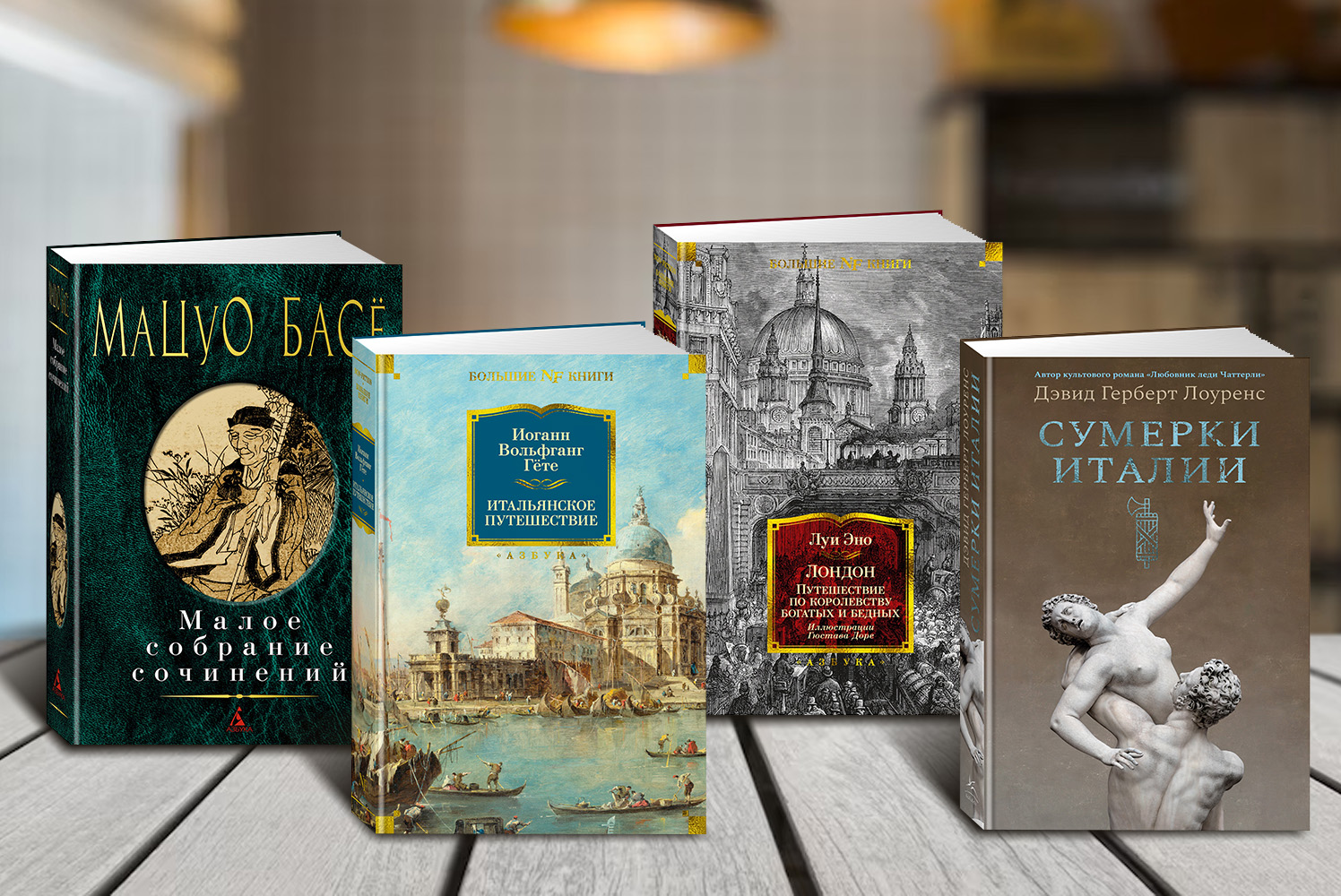
Литература о путешествиях начала обретать популярность еще в Средневековье — к примеру, в арабских странах, а также в Китае времен империи Сун. В эпоху, когда путешествие могло занять годы, если не десятилетия, и было делом куда более трудоемким, затратным и, что главное, рискованным, чем сейчас, чужие путевые записи становились подчас единственной возможностью узнать о мире.
Одним из самых ранних письменных свидетельств о путешествии исключительно ради удовольствия считается опубликованное письмо итальянского поэта Франческо Петрарка (1350 г.). В нем он описывает свое восхождение на прованскую гору Ванту и сравнивает подъем на вершину с духовным ростом. Ряд исследователей считает письмо Петрарки чуть ли не символом смены эпох, перехода от средневековой мысли к духу Возрождения.
К XVI веку путешествия между странами участились и стали более доступными, а с ними вырос и ассортимент путевой литературы. К XVIII столетию популярность книг о путешествиях в Европе и конкретно Великобритании была так велика, что практически каждый известный автор работал над чем-то в этом жанре или пытался его обыграть — как, например, Джонатан Свифт, который оформил социальную сатиру в путевой очерк корабельного врача, рассказывающего о своих приключениях в фантастических странах.
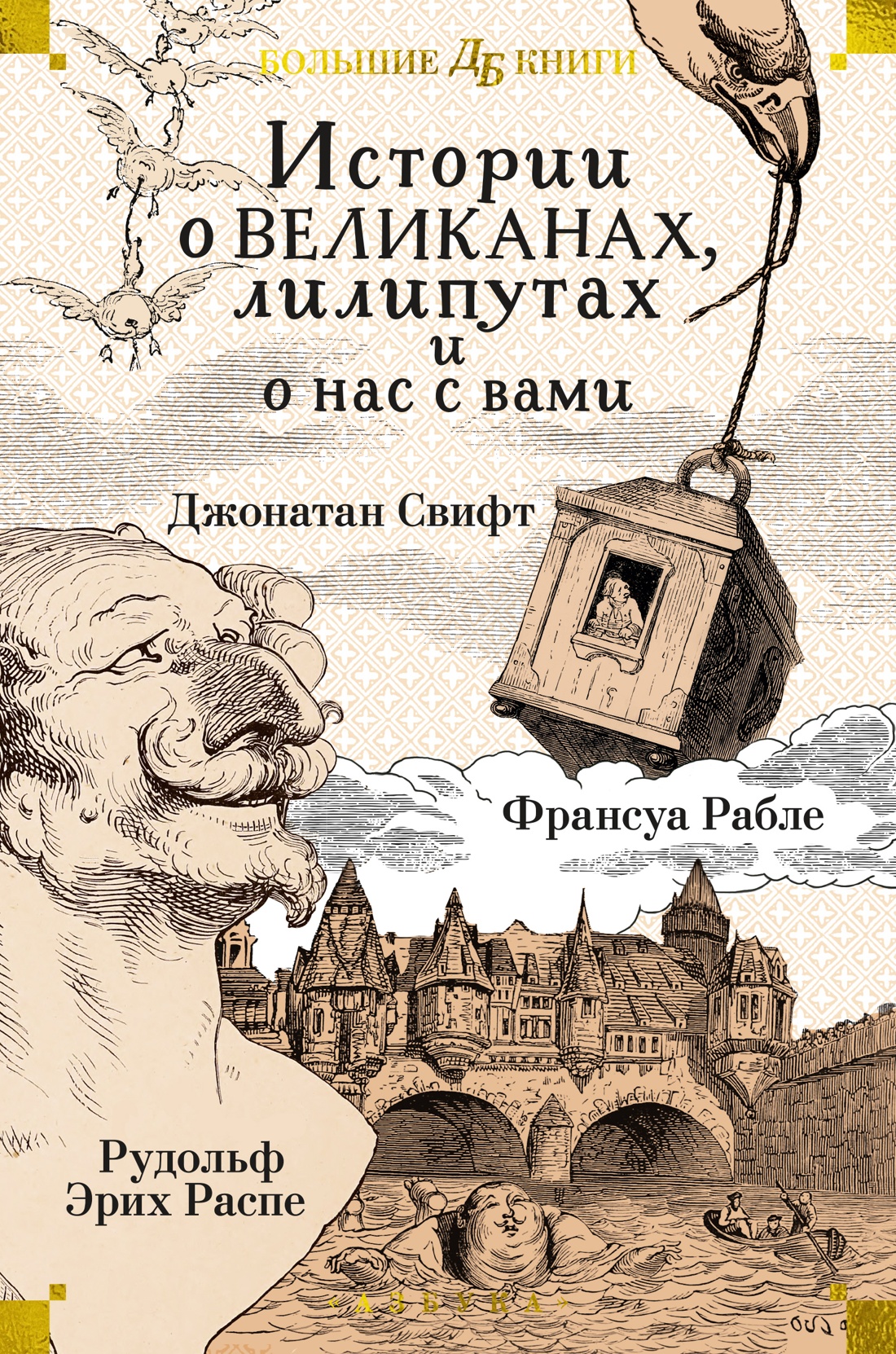
Среди классических очерков этого столетия, заслуживающих внимания, стоит отметить «Итальянское путешествие» Иоганна Гёте. Написанное по воспоминаниям, заметкам и письмам спустя много лет после поездки, «Итальянское путешествие», тем не менее, сохраняет удивительную свежесть первых впечатлений поэта.
К XIX веку и вовсе появилась особая каста писателей-путешественников, совершавших поездки лишь ради того, чтобы затем литературно о них написать. (А некоторые — чтобы нарисовать, как, например, французский художник Густав Доре, погрузившийся глубоко в улицы Лондона, чтобы запечатлеть его во всем блеске невиданного богатства и шокирующей нищеты после промышленной революции).
Путевые очерки начала ХХ века превратились со временем в одно из единственно доступных окон в мир до Второй мировой войны. «Сумерки Италии» Дэвида Герберта Лоуренса живописуют эту страну во всем своем чувственном очаровании накануне темнейшей главы в ее истории.
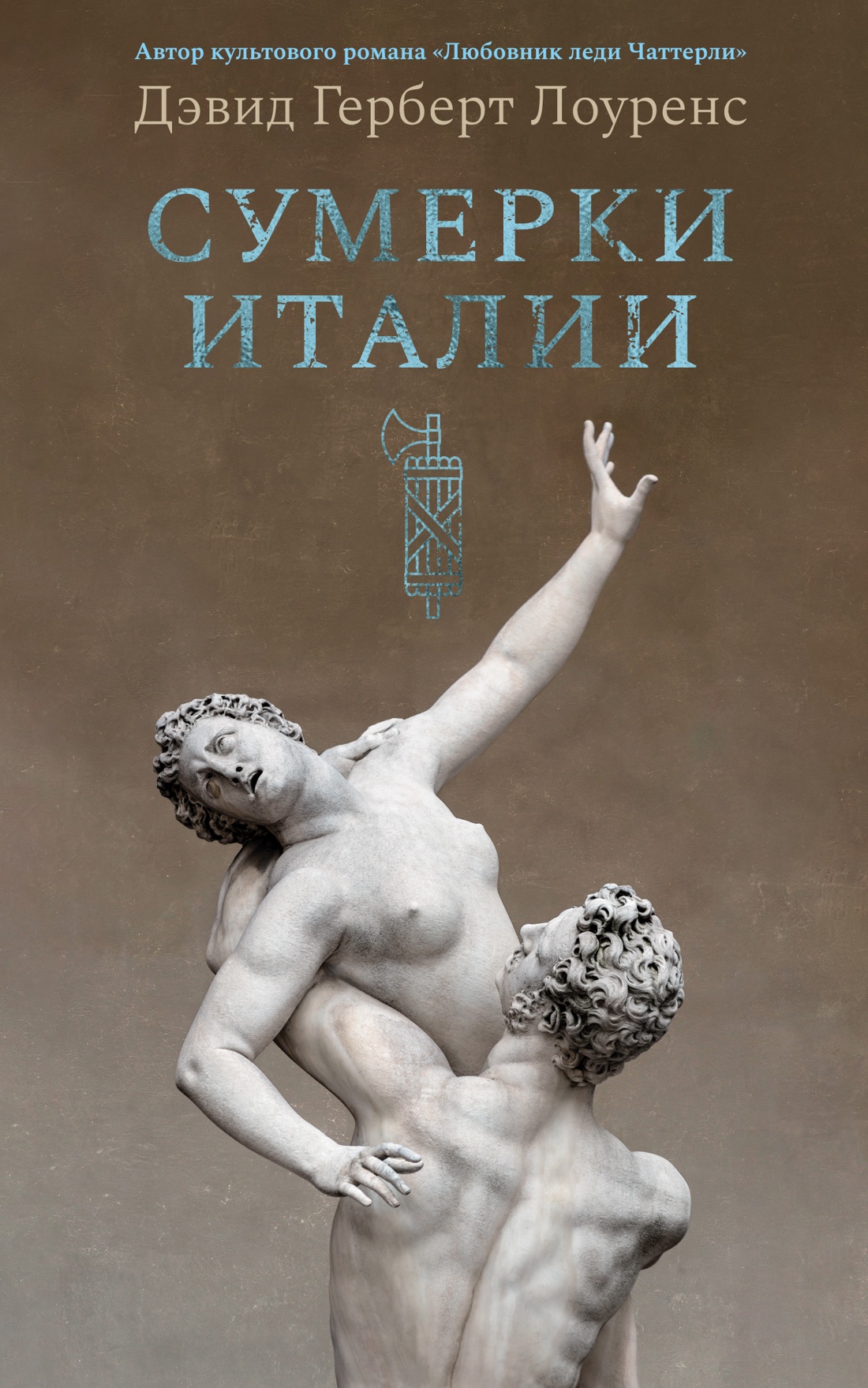
Путевая проза Ивлина Во, собранная им в единую антологию, уже в более поздние годы рисует беспечные годы, когда, буквально, «шагалось так легко», что юный британский репортер мог без труда оказаться в любой точке мира от Средиземноморья до Африки, увидеть как коронацию абиссинского императора, так и начало Итало-эфиопской войны.
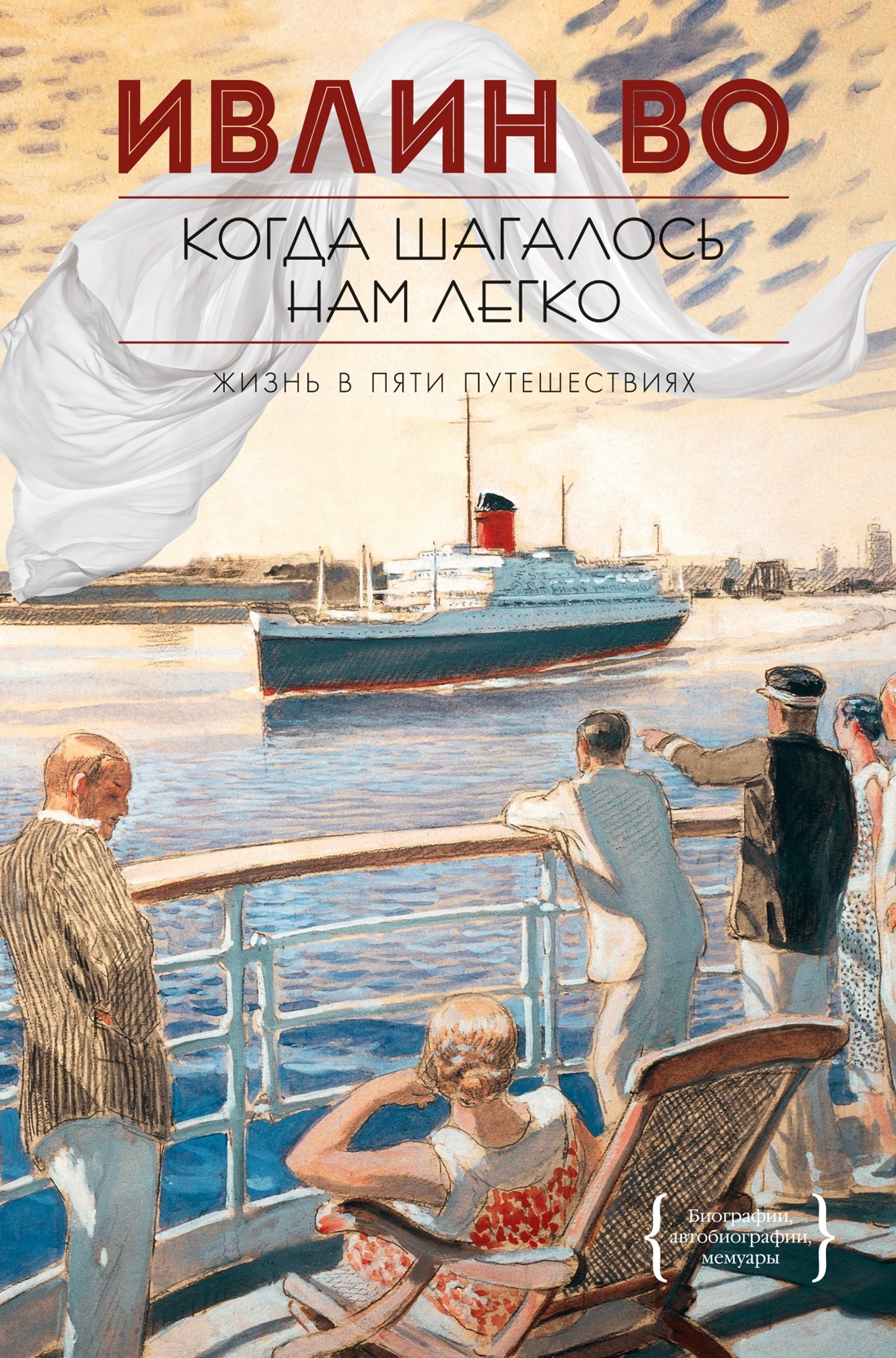
Но и во второй половине ХХ века, когда границы стали прочнее, а обо всех маршрутах можно было прочитать в чужих книгах и, вскоре, в интернете, продолжили появляться писатели, которые хотели увидеть чудеса мира собственными глазами, а затем о них написать.
Среди них — известный английский писатель и путешественник Брюс Чатвин, который в 1987 году отправился в Австралию, чтобы самому узнать все о легендарных Тропах Песен — одновременно дорогах, поэмах и священных местах. Результатом стала удивительная книга, погружающая читателей в далекий мир дикой природы Австралии и мифологию ее коренных жителей.

Путевые очерки в русской литературе
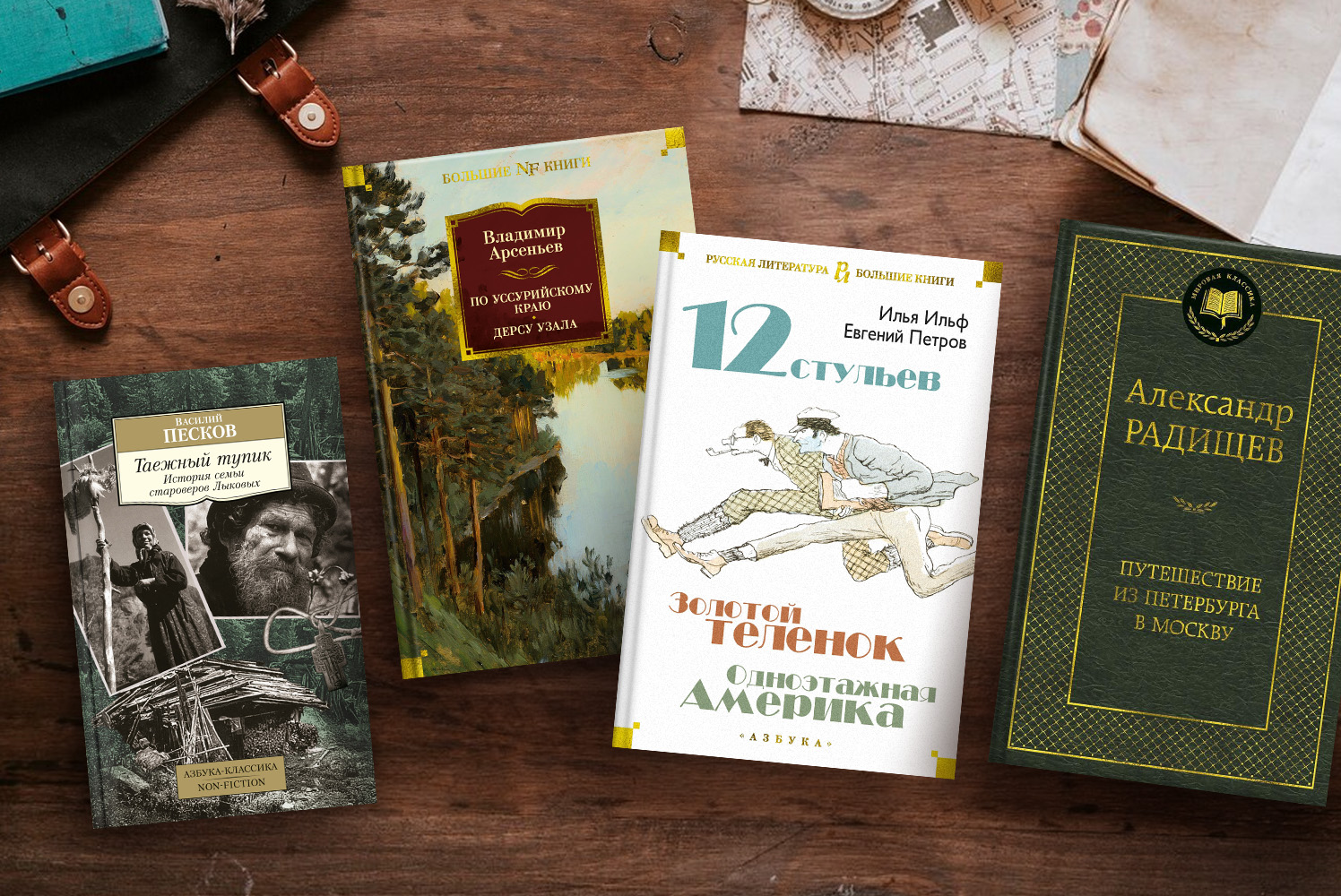
В русской литературе в Средние века также выделился свой жанр путевых заметок — «хожение», или «хождение». В первые десятилетия существования жанра подобные заметки писались паломниками, которые описывали свои странствия по святым местам. Первым хождением нерелигиозного характера принято считать «Хожение за три моря» тверского купца Афанасия Никитина (XV в.), посвященное его путешествию в индийское государство Бахмани. В своем сочинении Никитин подробно описал уклад жизни Индии, ее политический строй, торговлю, сельское хозяйство, обычаи и традиции, попутно разбавляя свой рассказ автобиографическими вставками.
Однако когда говорят о зарождении жанра путевого очерка в России, отсчет обычно ведут от «Путешествия из Петербурга в Москву» Александра Радищева (1790 г.) — произведения скандального, долгое время запрещенного, чуть было не стоившего автору жизни. Смело рассуждая о судьбе страны, критикуя самодержавие и крепостное право, Радищев, вместе с тем, следует канонам популярного тогда европейского жанра сентиментального путешествия (гибрида романа и путевых заметок): его лирический герой движется по маршруту Петербург–Москва, а главы названы согласно населенным пунктам, расположенным между городами. (Интересно, что именно это помогло произведению миновать первую цензуру: посмотрев на оглавление, проверяющий счел, что имеет дело с обычным путеводителем, и не стал тратить время на чтение).
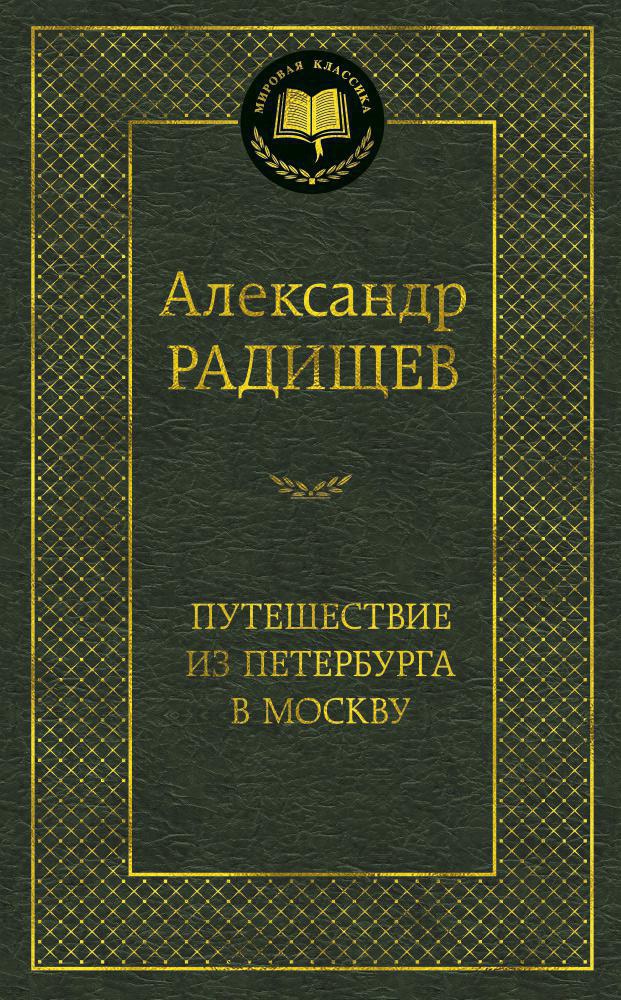
Всего несколькими годами позже вышло куда менее революционное с политической точки зрения, но не менее, а то и более значительное с точки зрения литературы произведение — «Письма русского путешественника» Николая Карамзина. Написанное в эпистолярном жанре, оно рассказывает о путешествиях Карамзина по Европе: Германии, Швейцарии, Франции и Англии. “Письма…” имели огромный успех в России и за рубежом, изменили восприятие русских за границей и более того — оказали огромное влияние на развитие отечественной литературы: считается, что в этой работе Карамзин, ни много ни мало, заложил основы русского романа XIX века.
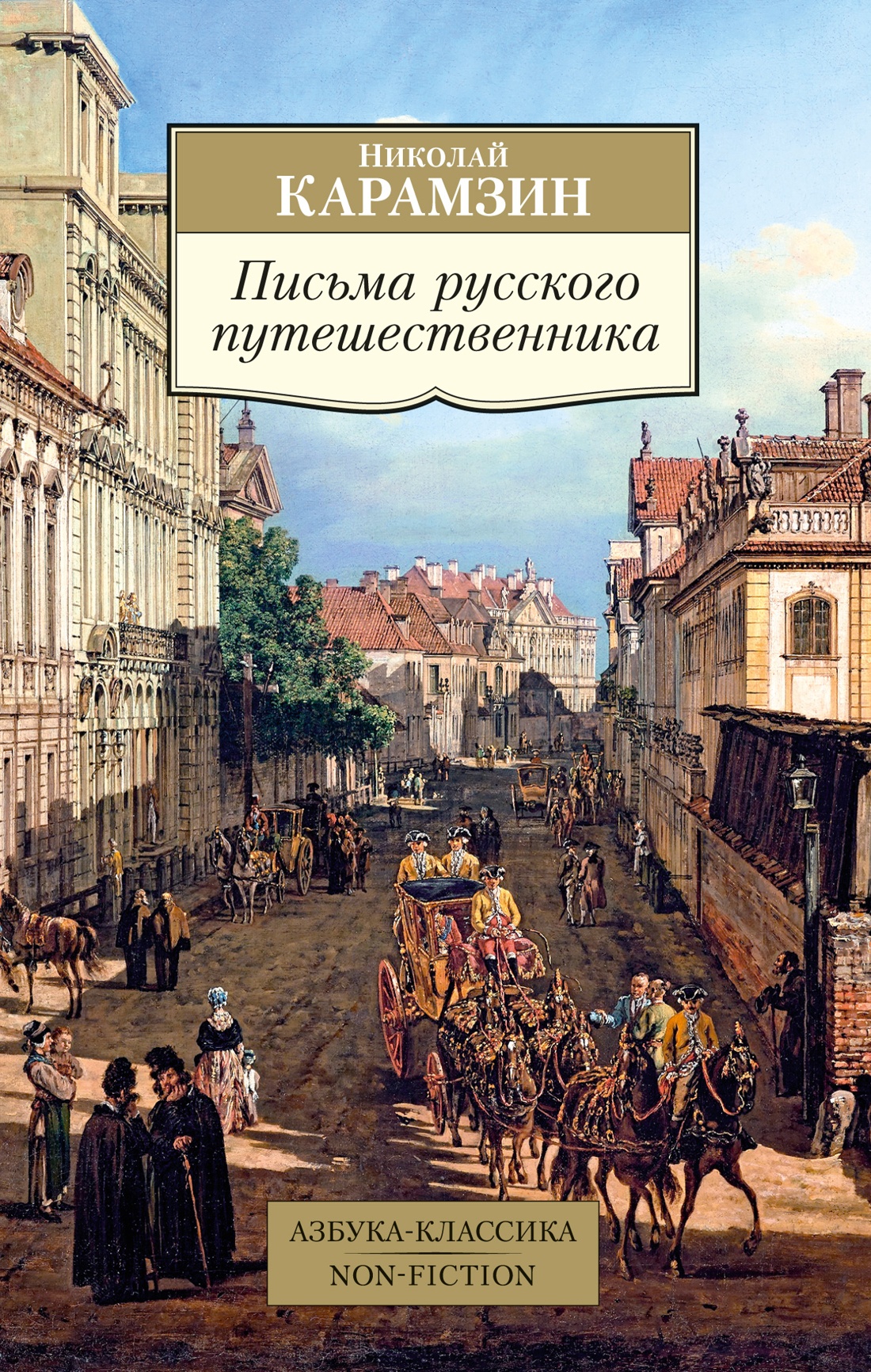
Из путевых очерков последующего столетия выделяются «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» Александра Пушкина, «Фрегат „Паллада“» Ивана Гончарова, «Остров Сахалин» Антона Чехова.
В ХХ веке, вероятно, самым популярным произведением в жанре путевого очерка на русском языке стала история о похождениях культового творческого дуэта Ильфа и Петрова по Соединенным Штатам — «Одноэтажная Америка». В ней авторы с присущими им юмором и наблюдательностью рассказывают о своем путешествии через всю страну, от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и обратно, делятся забавными случаями и рисуют удивительно живой портрет Америки 30-х годов.
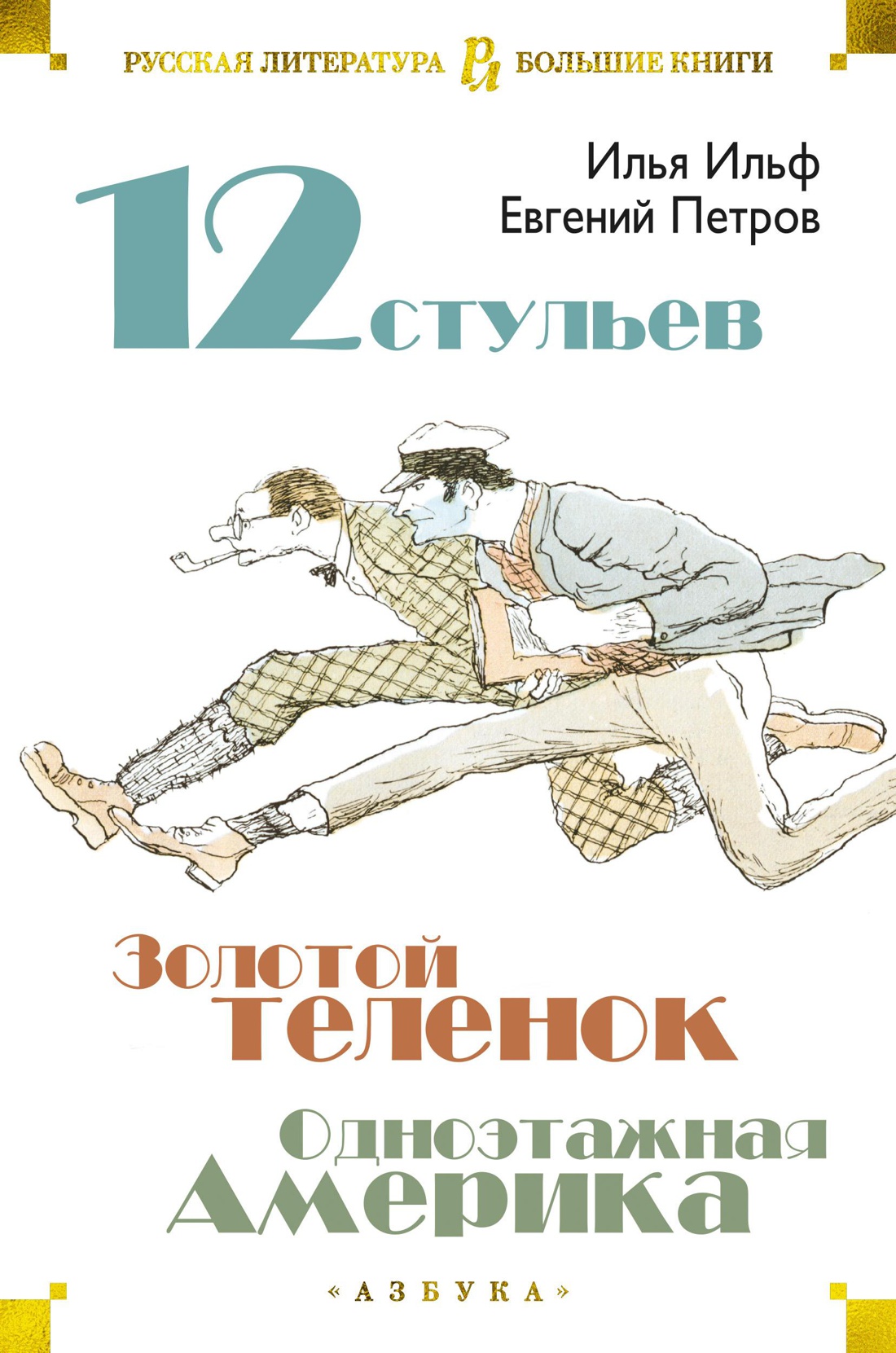
Другими яркими примерами станут очерки «Образы Италии» искусствоведа Павла Муратова (1911 г.) и книги путешественника и этнографа Владимира Клавдиевича Арсеньева, посвященные его исследованиям Дальнего Востока, «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала» (1921, 1923 гг.). Последняя была дважды экранизирована; одну из экранизаций снял великий японский режиссер Акира Куросава, получивший за эту картину премию «Оскар».

Зачем читать путевые очерки?
Если истории о путешествиях уже давно не служат единственным источником знаний о чужих странах культурах, зачем же их читать, можете спросить вы. Ведь теперь практически о любой точке земного шара можно узнать, просто введя ее название в поисковую строку. Не говоря уже о том, чтобы просто отправиться туда самому.
И все-таки путевой очерк — это не только и не столько путеводитель.
Это, во-первых, портрет — портрет того, кто отправился в это путешествие и кто из него вернулся. Италия Лоуренса никогда не станет Италией Ипполитова, Муратова или Гёте: каждый из них увидел и запомнил о ней что-то свое.
И это, во-вторых, срез времени, в чем-то куда более живой, чем картины или фотографии тех же лет. На картины, хотим мы того или нет, мы смотрим издалека, глазами человека ХХI столетия. Но, следуя за Ильфом и Петровым по пыльным дорогам Америки 30-х годов, мы увидим ее краски, услышим ее разговоры и запахи, почувствуем под ногами ее землю так, как видели, слышали и чувствовали их они, почти век тому назад.