Тема, о которой пойдет речь, не принадлежит какой-то одной науке, поэтому попытки говорить о феминитивах только с точки зрения языка или, наоборот, с позиции социальных наук заранее обречены на провал. Мы должны учитывать и лингвистический, и социальный контекст. Именно эта идея лежит в основе социолингвистики — науки, появившейся в середине XX века, когда стало ясно, что многие языковые явления обусловлены социальным контекстом, а социальные процессы, зачастую находятся под влиянием языковых факторов.
Сегодня любой текст о феминитивах и отражении гендера в языке обязательно подвергается яростной критике социологов и антропологов, если его напишет лингвист «со своей колокольни», без учета социальной теории, — и наоборот, лингвистам многие аргументы из социальных наук покажутся дикими и противоречащими идеям современного языкознания. Пройти по лезвию этой бритвы и не порезаться практически невозможно — но, поскольку язык (и право его обсуждать) все же в равной степени принадлежит любому его носителю, я буду говорить в первую очередь как раз о языке.
Что такое феминитив: лингвистическая теория
Сначала о терминах. Феминитивами принято называть существительные, которые применяются к лицам и существам женского пола — в противопоставление мужчинам (студентка, писательница). Здесь нужно особо подчеркнуть три вещи, важные для дальнейшего рассказа.
Речь идет именно о лицах женского пола — то есть обо всех одушевленных существительных. Грамматический род и биологический пол напрямую не связаны — а у неодушевленных существительных никакого пола нет вообще: мы не знаем, за какие заслуги стул по-русски стал мужского рода, а кровать — женского. Именно поэтому попытка одной петербургской кофейни «феминизировать» названия кофейных напитков — «эспресска», «рафиня», «латтесса» — кажутся многим столь неорганичными.
Мы говорим именно о противопоставлении женщин мужчинам — русская грамматика устроена таким образом, что одушевленное существительное мужского рода, как правило, может применяться и к мужчинам, и к женщинам (студентом можно назвать и девушку, и парня), в то время как слова женского рода — те самые феминитивы — употребляют только в отношении женщин; так, Агата Кристи может быть писательницей, а вот Артур Конан Дойл — уже нет. Легко заметить, что слова в таких парах «неравноправны»: сфера употребления одного из них шире, чем у другого, и именно это обстоятельство так часто вызывает дискуссии и недовольство.

Феминитивы тесно связаны происхождением с соответствующими словами мужского рода (маскулинитивами). Как правило, слово женского рода образовано от мужского с помощью суффикса и/или окончания. Даже названия «традиционно женских» занятий образованы стандартными средствами, так что мы можем автоматически сделать маскулинитив. Роженица во всем подобна ученице, значит, теоретически рожающий мужчина назывался бы рожеником. Иногда маскулинитивы употребляются реже феминитивов, потому что занятие считается «традиционно женским» (вроде редких дояр и швец при куда более известных доярке и швее). Разные корни используются, как правило, у слов с более общим значением (муж/жена, парень/девушка), а также для обозначения пола животных (жеребец/кобыла, баран/овца).

Откуда пошли феминитивы
Три грамматических рода русский язык унаследовал от праславянского, и большинство русских существительных сохраняет тот же род, что был у них много веков назад — за некоторыми интересными исключениями вроде тени, печати и степени, раньше относившихся к мужскому роду.
Большая часть суффиксов, с помощью которых образуются феминитивы, известна русскому языку с древних времен. В «Российской грамматике» Ломоносова (1755) читаем: «Женские, от мужеских происходящие, по большой части кончатся на ка, ха, ца, ша, ня: пастухъ, пастушка; щеголь, щеголиха; генералъ, генеральша; мастеръ, мастерица; князь, княгиня». Некоторые суффиксы были заимствованы из других языков, самые яркие примеры — суффикс -есс-, пришедший из французского языка в составе многочисленных заимствований (принцесса, поэтесса), а также родственный ему -ис- (актриса, директриса) и итальянский -ин- (синьорина, балерина). Ко второй половине XVIII века относится забавное стихотворение полузабытого ныне поэта Александра Сумарокова, начинающееся с таких строк:
Если девушки метрессы,
Бросим мудрости умы;
Если девушки тигрессы,
Будем тигры так и мы.
Слово метресса (от фр. maîtresse — “госпожа, владычица”), по-видимому, было заимствовано сразу в значении ‘любовница’, а вот с тигрессой история более интересная — поскольку в России тигры, в отличие от медведей, по улицам не ходят, для обозначения экзотической реалии были заимствованы сразу два слова, «мужское» и «женское». Уже через пару десятилетий у Карамзина («Юлия», 1796) находим вполне закономерную тигрицу: «Они все изверги, злодеи, вероломные; тигрица воспитала их молоком своим; под языком носят они змеиный яд, а в сердце их шипит ехидна» — это показывает, что освоение слова языком — всего лишь вопрос времени.

Помпадуры и помпадурши: влияние социальной среды
Ещё один часто вызывающий споры суффикс — -ш- (генеральша, капитанша). Распространено мнение, что слова с таким суффиксом обязательно обозначают супругу или вдову мужчины, имеющего определенную профессию или чин. В XVIII–XIX веках это практически всегда было так — классные и военные чины по «Табели о рангах» могли присваиваться только мужчинам, поэтому генеральша обозначала жену генерала, а не женщину-генерала, а докторша — обязательно жену доктора.
Сам суффикс, судя по всему, был заимствован — на этот раз из немецкого языка в составе слов вроде Generalsche, Doctorsche. Его семантическое своеобразие сохранялось до конца XIX века. Еще в 1877 году у А. Ф. Писемского находим: «Выйдя за него замуж, она будет докторшею, — титул не громкий!», и только в 1898 году, похоже, в литературе впервые докторша употребляется в значении ‘женщина-врач’: «Старушка заботливо оправляла подушки больной. При виде докторши лицо девушки вспыхнуло и осветилось радостной улыбкой» (Н. Гейнце, «Самозванец»).
Рубеж XIX–XX веков — это период трансформации традиционной системы социальных отношений, когда женщины освоили нетипичные для них ранее профессии и социальные роли, начали появляться многочисленные женщины-доктора (а ещ через несколько десятилетий — и женщины-генералы). Возникла необходимость как-то выражать новые социальные смыслы, сосуществование двух значений стало вызывать путаницу, поэтому в начале XX века появилось другое слово для обозначения именно женщины-врача — докторица: «Начальник и тот вязаться с ней побоялся. Или забыл. Слышно, докторицу молодую в больнице облюбовал, с ней утешился» (Л. Сейфуллина, «Виринея», 1924). Докторицы нередко встречаются в литературе в течение всего XX века (ср. у Лимонова в «Молодом негодяе» 1985 года: «...она вынуждена продавать <...> журналы «Работница» и «Здоровье» докторицам из находящейся на углу Большой Больницы»), лишь несколько лет назад обретя конкурента в лице докторки.

А что же с самим суффиксом -ш-? Видимо, из-за стойких ассоциаций с более ранним значением и желанием носителей языка дистанцироваться от него слова с -ш- стали восприниматься как пренебрежительные, уничижительные — это отношение распространилось на сам суффикс и вновь образованные с его помощью слова, даже если они никогда не обозначали жену мужчины какой-то профессии. Мамаша в разговорном употреблении с большой долей вероятности криклива и неадекватна, вахтёрша и кондукторша грубят и лезут не в своё дело, инспекторша нечиста на руку и так далее. Между тем в «Детстве» Толстого (1852) неоднократно встречаем мамашу без всяких коннотаций: «Все это заставляет меня вскочить, обвить руками ее шею, прижать голову к ее груди и, — Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю!» Это один из многочисленных примеров того, как язык меняется под влиянием внешних факторов — в данном случае это происходит подспудно, но бывают и вполне осознанные усилия по изменению языка (вроде борьбы с заимствованиями).
Врачихи и зайчихи, или роль аналогии
История суффикса -ш- вряд ли уникальна. Обратимся к еще одному показательному случаю — группе слов на -иха. Его уничижительное значение отмечал Ломоносов («На ха кончащиеся женские, от мужеских происходящие, унизительное знаменование имеют и происходят по большой части от посмеятельных прозвищей: чесночиха, костылиха, волчиха, болваниха»). В древнерусский период суффикс широко использовался в нейтральном значении, однако со временем практически все содержащие его слова приобрели отчетливый негативный оттенок — возможно, из-за влияния названий самок животных (крольчиха, лосиха), а может, из-за устойчивых историко-литературных ассоциаций (спасибо А. Н. Островскому за его многочисленных отталкивающих купчих, в том числе Кабаниху).

В результате слово врачиха, впервые отмеченное в 1920-х годах, с самого своего «рождения» имело негативные коннотации — ср. у Андрея Белого в 1934 году: «"Эстетика" стала "наша", противополагаясь "Литературно-художественному кружку", где деятели искусства обрамлялись публикой, падкою до скандалов: газетчиками, адвокатами и зубными врачихами», или у Зощенко в 1931-м: «Мол, чего, если она нарочно познакомит его с этой разбогатевшей врачихой, а та сдуру возьмет да и отсыплет ей пять червонцев». Сейчас в словарях слово врачиха описывается как разговорное или даже просторечное, и назвать женщину-врача «врачихой» можно либо в шутку, либо с явным намерением оскорбить. Так же с поварихами: можно ли представить себе шеф-повариху в мишленовском ресторане? Вряд ли: скорее в школьной столовой.
Авторки и депутатки: родом из классики
Наконец обратимся к самому, пожалуй, спорному и навязшему в зубах случаю — образованию феминитивов с помощью суффикса -к-. Именно авторок, редакторок и спецкорок в первую очередь приводят в пример, рассуждая о волне популярности феминитивов в XXI веке. Суффикс -к- известен русскому языку давно и используется очень широко: разнообразные студентки, пианистки и гражданки в изобилии встречаются начиная с середины XIX века. Ср. у Достоевского в «Бесах»: «Прибывшая девица Виргинская, тоже недурная собой, студентка и нигилистка, сытенькая и плотненькая, как шарик, с очень красными щеками и низенького роста, поместилась подле Арины Прохоровны», а у Тургенева в «Дворянском гнезде» находим: «Варвара Павловна показала себя большой философкой: на все у ней являлся готовый ответ, она ни над чем не колебалась, не сомневалась ни в чем».

Взрыв популярности феминитивов относится к началу XX века и изменившейся социальной ситуации; в этот период суффикс -к-, видимо, из всего доступного спектра оказался наименее нагружен «старыми» коннотациями, а потому стал использоваться максимально широко. Можно проследить эту историю на примере слова депутатка: если в 1900-х годах оно осторожно используется по отношению к членам зарубежных парламентов, то после революции его популярность растет взрывообразно; у А. С. Серафимовича: «Студенчество делегацию к нему посылало. Наши курсы выбрали меня в эту делегацию депутаткой» (1929), а в 1980-х такое употребление уже абсолютно обычно: «Не всегда же тебе, невестушка, быть депутаткой, — перебил ее Раиф, — надо, чтобы и другие побыли. — Почему другие?! — возмутилась она. — Пока я собираю чай лучше всех, я должна быть депутаткой» (Фазиль Искандер, «Сандро из Чегема»). Поэтому говорить об авторках и редакторках как о неологизмах нашего времени вряд ли можно — этот процесс начался не менее полутора веков назад. Более того, в XIX веке отмечается и обратный процесс — образование маскулинитивов без -к- от соответствующих названий женщин, ср. у Достоевского: «Мало того, он стал кокетом», или у Салтыкова-Щедрина: «Каждый день из лагеря хищников, предателей, пустосвятов и проститутов раздаются распутные клики».
Языковая политика и конфликты
Суффикс -к- не универсален. Лингвисты давно заметили, что он чаще и лучше всего присоединяется к словам, ударение в которых падает на последний слог основы — именно поэтому студентка и депутатка не вызывают у носителей языка подсознательного отторжения, а с авторкой ситуация сложнее. Из-за того что некоторые неологизмы на -ка резко выбиваются из языковой системы, многие люди, услышав их, воспринимают такое словоупотребление как намеренную попытку изменить язык, реализовать с его помощью какую-то политическую программу. Негативная реакция носителя языка на попытки реализации языковой политики, если они не совпадают с его собственной позицией, вполне закономерна — и это часто является причиной конфликтов.

Конфликты возникают не только среди обычных носителей языка: не так давно в русскоязычном Фейсбуке горячо обсуждали случай Линор Горалик, которая попросила один известный феминистский сайт называть ее исключительно поэтом (при этом известен и противоположный пример — Юнна Мориц для себя изобрела — или переизобрела — слово поэтка). Прибавим к этому известную историю о том, что ни Ахматова, ни Цветаева — не признавали слово поэтесса; впрочем, суффикс -есс-, судя по всему, уже мало кем воспринимается всерьез, поэтому появляются такие шутливые объявления в «Литературной газете»: «В связи с наступлением 8 Марта мужская часть администрации "Клуба ДС" постановляет: поздравить а) поэтесс, б) прозаесс, в) драматургесс, г) критикесс, д) очеркесс, е) переводесс, ж) фельетонесс, з) баснописцесс, и) юморесс, к) сатирикесс и вообще всех женщин». Неизвестно, обиделись ли юморессы и баснописцессы на это объявление — однако выше мы видели, как у суффиксов возникают устойчивые ассоциации с социальным контекстом, и, пожалуй, уже можно говорить, что суффикс -к- в начале XXI века приобрел устойчивые ассоциации с современным феминистическим движением.
Будущее феминитивов
Пожалуй, самый важный и интересный вопрос, касающийся феминитивов, связан с тем, какая судьба ждет вновь появившиеся в языке слова. Мы уже убедились в том, что феминитивы (в принятом нами определении) в русском языке существовали всегда. Однако одна и та же группа слов может быть чрезвычайно популярна в один исторический период и полностью сойти со сцены веком позже. Для исторического языкознания это абсолютно нормальная ситуация; например, из огромного количества немецких и голландских заимствований Петровской эпохи сохранились в языке далеко не все. Именно поэтому говорить о том, что «феминитивы — это порча языка», как любят заявить их противники, бессмысленно: такие явления можно оценивать исключительно с исторической дистанции.
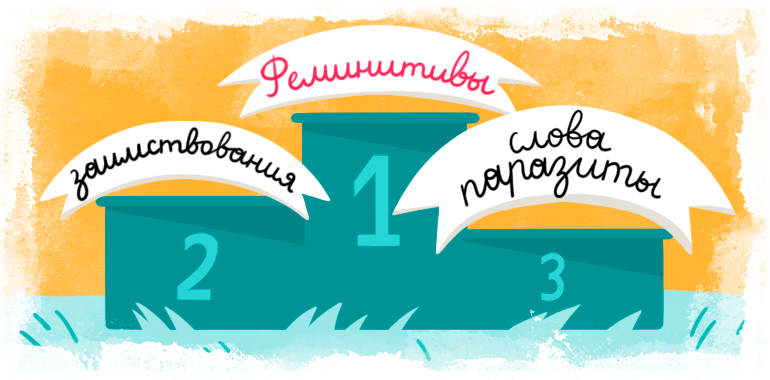
Вопрос о том, можно ли вообще направленными действиями менять язык, остается открытым. Большинство лингвистов придерживается идеи о том, что язык — это саморегулирующийся организм, хорошо выраженной известным ученым В. М. Алпатовым: «Попытки оказать прямое воздействие на структуру языка заранее обречены на провал. Никакие штрафы не могут отменить внутренние изменения языка». С другой стороны, успешные попытки реализации языковой политики у нас перед глазами тоже есть — возьмем хотя бы известный проект гендерной нейтральности в английском языке, где за последние десятилетия нормой стало говорить firefighter (“пожарный”, буквально ‘огнеборец’) вместо fireman (с компонентом man — “мужчина”) или flight attendant (“бортпроводник”) вместо различающихся по гендеру steward и stewardess. Вполне возможно, что веком позже кто-то из наших потомков будет анализировать строки Дины Рубиной: «Вячик уехал оскорбленный, напоследок, разумеется, высказав все, что думает об идиотке-режиссерке, кретинке-сценаристке <...> и бездарных актерах» — и текстовый редактор не будет подчёркивать часть слов в этом предложении красным. Как всегда — время покажет, а носители и носительницы языка разберутся.
Для нашего исторического расследования мы использовали один из самых полезных лингвистических инструментов — Национальный корпус русского языка, позволяющий искать нужную информацию по многомиллионной базе словоупотреблений.

